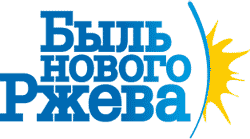В ротном курятнике
- Автор Александр Назаров
В сказке про курочку Рябу все настолько запутано и нелогично, что, похоже, так оно и было на самом деле
— В сказке про курочку Рябу все настолько запутано и нелогично, что, похоже, так оно и было на самом деле. Снесла Ряба золотое яйцо. Бывает. Куры такое клюют, что от них все можно ожидать. И что делают выжившие из ума дед с бабкой? Они колотят яйцом по столу. Допустим, они хотели убедиться, что яйцо целевое, не полое внутри... Ну, конечно! Тогда становится понятно, почему дед и баба так убивались, когда мышь кокнула золотое изделие. Но курица тоже хороша. Ей бы встрять вовремя. «Что ж вы делаете, дикари, я зря, что ль, мучилась?!» Но она промолчала. И молчала б уж до конца, а то выдала... У людей горе, а она им — соль на рану. Курица здесь выступает в роли сумасшедшего психолога, говорит: снесу я вам не золотое яйцо, а простое; все равно расколотите, хоть не так обидно будет. Ну утешила, рыжая бестия…
Примерно так рассуждал мой армейский друг Вовка Кучин, чистя картошку в наряде на кухне после того, как старшина накрыл нас в ротном курятнике.
В шалаше возле казармы жила фазанья чета: петух-красавец — грудь и крылья красные, как пожар, а на хвосте перья черные, длинные, на ветру развеваются, как траурные ленты; и фазаниха — рябенькая, невзрачная, худородная, раза в три ниже петуха. Неслась она исправно (старшине нашему грех было жаловаться), но нрава, видать, была крутого. Петухи дохли друг за другом через два-три месяца совместного жительства. Последний год фазаниха жила одна, но неслась регулярнее прежнего. Старшина недоумевал, откуда что берется, и перестал подселять к ней петухов.
Однажды Вовка Кучин предложил мне: «Шура, пойдем, проведаем вдову. Ты встань за то дерево, и, если что, свисти». Сам Чуча (так его прозвал татарин Муланурыч) нырнул в теплый шалаш и начал шарить по углам. Я направился к указанному широченному дереву, где и повстречался со старшиной нос в нос.
— Привет, свистун, — тихо прорычал он, — куда стопы направил? А что это ты мне честь не отдаешь? Что окаменел, свисти давай, подельничек.
Я свистнул. Вернее, издал звук, похожий на шипение кота перед бульдогом.
— Браво, — продолжал издеваться старшина, — ну прям Соловей-разбойник. Все, больше ни звука, а то шалаш улетит, дерево упадет... Стой тут. Если что — свисти, но не так громко, как давеча...
Старшина направился к шалашу. Оттуда летели перья и доносился Чучин зловещий шепот: «Смир-рнаа! Реквизиция! Продналог! У-у, Юдифь, четверых мужиков угробила... Тихо, не брыкайся».
Старшина наклонился и тихонько спросил: «Ты что, из нее яйца выдавливаешь?»
— Да нет, я по углам ищу. А она клюется, — ответил ничего не подозревающий Чуча, — глянь-ка, нет никого?
— Никого, вылазь.
Чуча высунул было голову, но, увидев старшину, отпрянул, охнул, повалился и притих. Потом через мгновение вылетел из шалаша, подошел к старшине строевым и отрапортовал: «Товарищ прапорщик, рядовой Кучин по вашему приказанию прибыл!»
— Ты что там делал?
— Хотел посмотреть, жива ли курочка. Что-то давно ее не видать, не слыхать...
— Ну и как?
— Да слава Богу...
И тут на лицо старшины набежал циклон.
— Выкладывай добычу, кобчик!
Чуча вытащил из-за пазухи два яйца и протянул старшине.
— В казарму бегом марш! И этого, что у дерева, сними с поста... Завтра на кухню пойдете оба. А если еще раз сюда залезешь, я тебя на яйца посажу, и пока фазан не вылупится, на дембель не пойдешь.
Ночью мы с Чучей жарили на кухне два фазаньих яйца (он старшине отдал только половину), и казалось, что вкуснее ничего нет на свете.
— Ты знаешь, Шура, выйду в отставку, разведу фазанов и буду каждый день перед сном яичницу жарить. А пару штук старшине пошлю за то, что за пазуху не залез. •